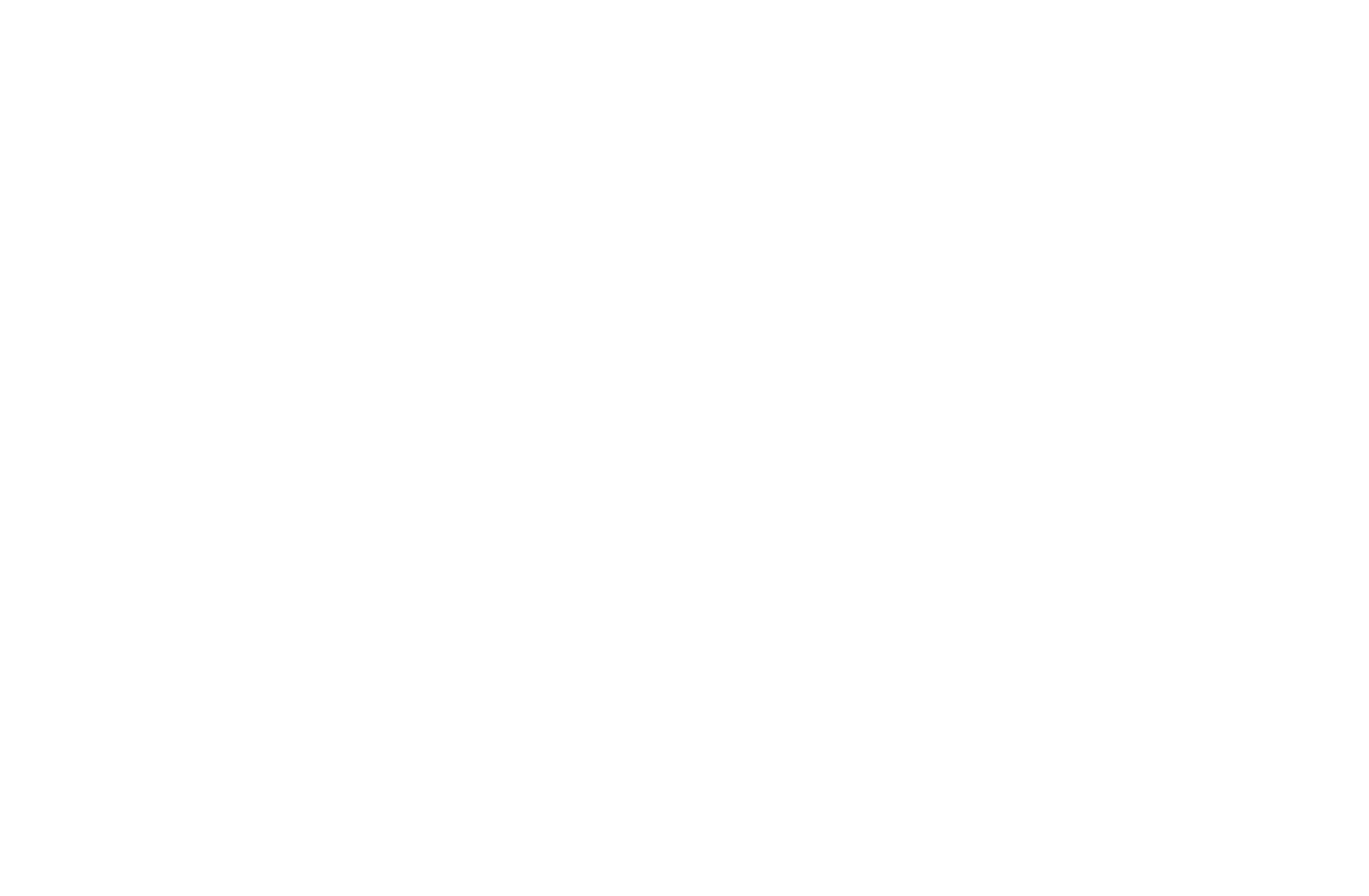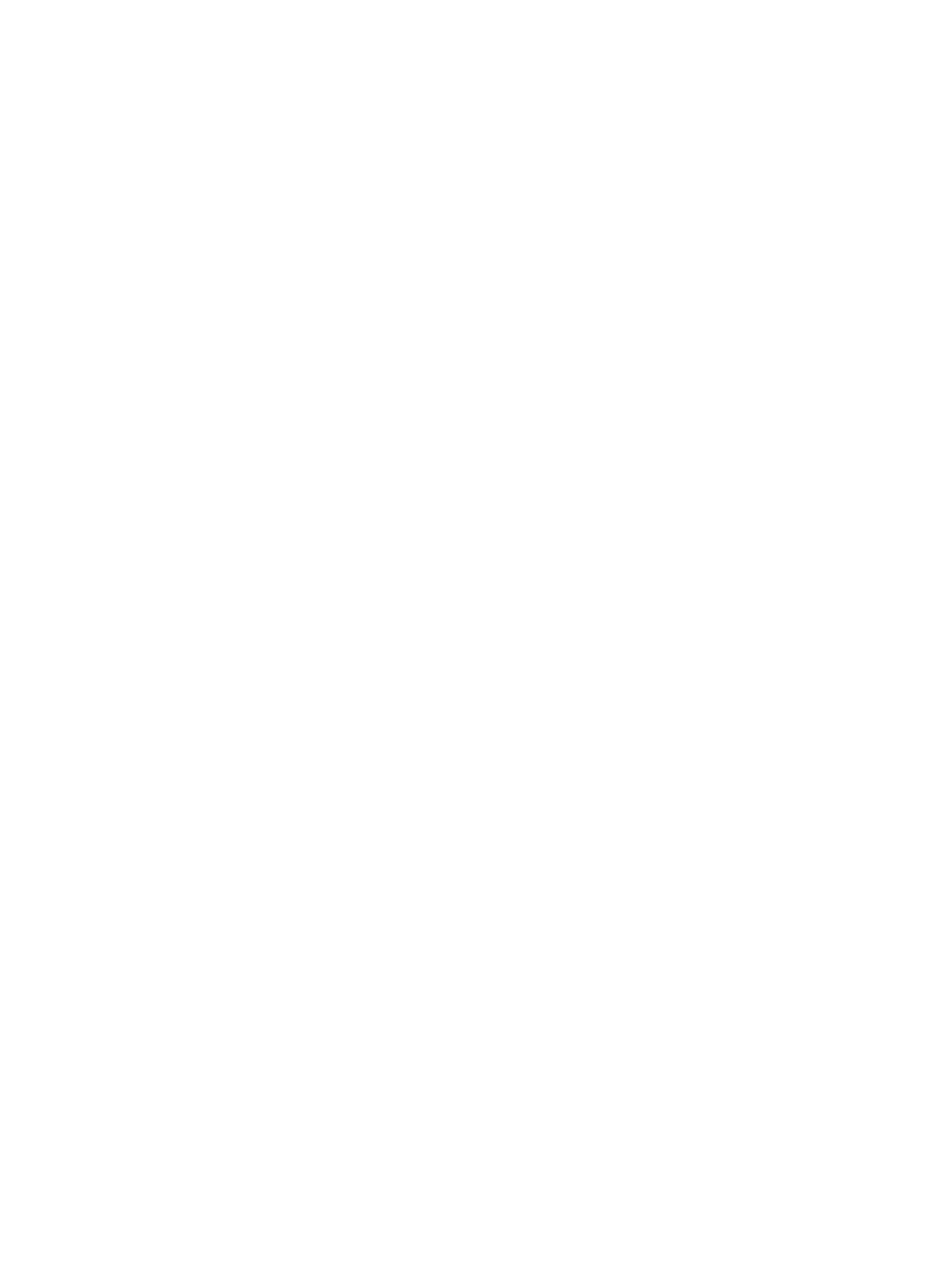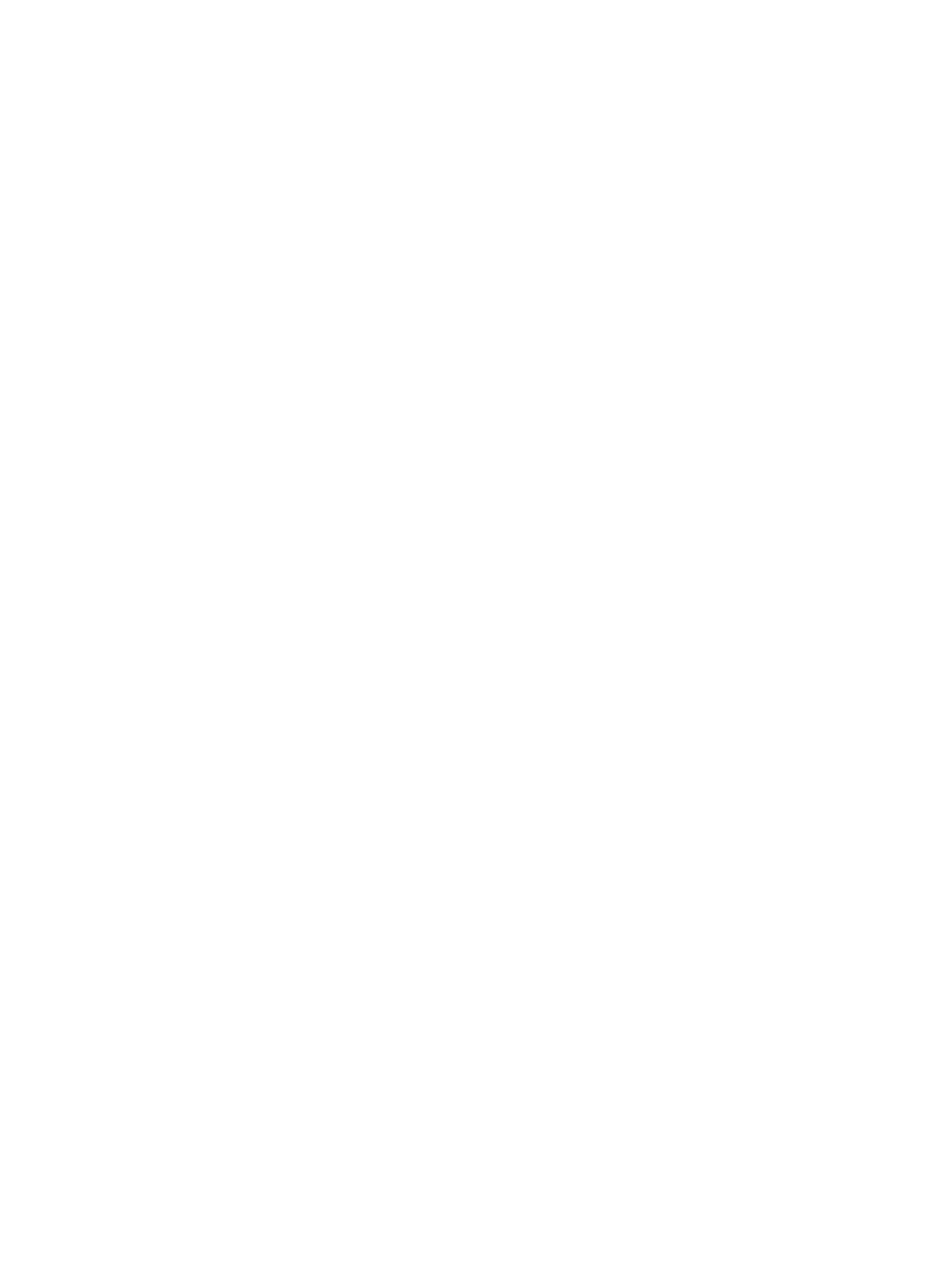Большевики и Церковь.
Красный террор
Красный террор
Революционный переворот 1917 г. охватил все сферы общества, а последовавшая за ним гражданская война стала национальной трагедией. В этот период подверглась разрушению теория официальной народности, некогда составлявшая основу существования Российской империи.
Одним из первых решений советской власти было отделение Церкви от государства и школы от Церкви, разорвавшее многовековые социальные связи. Несмотря на декларируемую свободу совести, политика большевиков с первых дней была антирелигиозной – в Церкви они видели идеологического конкурента, враждебного новому строю. Начавшиеся преобразования привели к невиданным по своему масштабу политическим репрессиям, в том числе против священнослужителей и верующих.
Антибольшевистский мятеж 6-21 июля 1918 г., организованный в Ярославле членами созданного Б.В. Савинковым «Союза защиты Родины и свободы», был поддержан представителями различных слоев населения, в том числе духовенством.
Последствия не заставили себя ждать. В Конституции РСФСР, принятой 10 июля 1918 г. V Всероссийским съездом Советов, определялись семь категорий граждан, ограниченных в избирательных правах. «Лишенцами», наряду с другими бывшими представителями «эксплуататорских классов», объявлялись все «монахи, духовные служители церквей и религиозных культов». Круг лиц, подлежавших лишению избирательных прав, не претерпел изменений без малого двадцать лет, до принятия «сталинской» Конституции СССР 1936 г.
Последствия не заставили себя ждать. В Конституции РСФСР, принятой 10 июля 1918 г. V Всероссийским съездом Советов, определялись семь категорий граждан, ограниченных в избирательных правах. «Лишенцами», наряду с другими бывшими представителями «эксплуататорских классов», объявлялись все «монахи, духовные служители церквей и религиозных культов». Круг лиц, подлежавших лишению избирательных прав, не претерпел изменений без малого двадцать лет, до принятия «сталинской» Конституции СССР 1936 г.
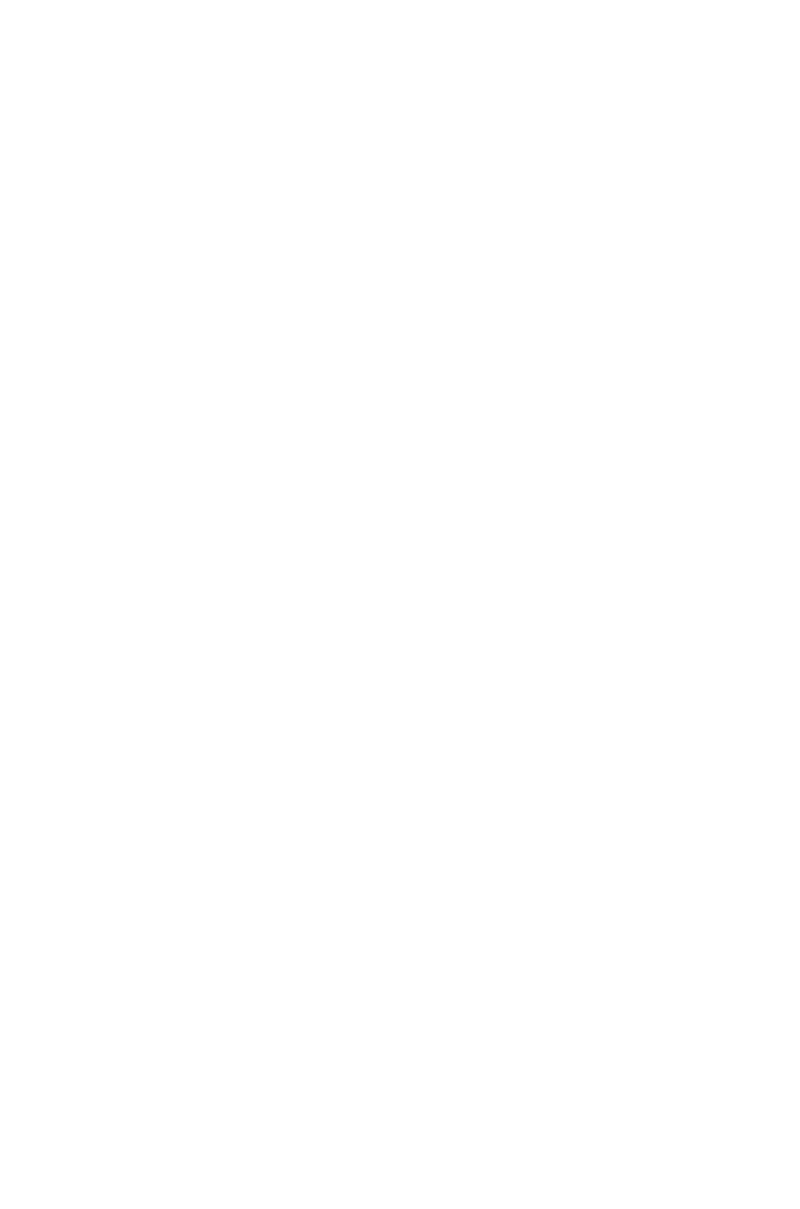
Конституция РСФСР, принятая 10 июля 1918 г. V Всероссийским съездом Советов
Декретом от 5 сентября 1918 г. был официально объявлен «красный террор», узаконивший применение жесточайших мер против «классовых врагов» советской власти. Предполагалось уничтожение и изоляция провозглашенных вне закона слоев общества: дворянства, офицеров, духовенства, зажиточных крестьян, казачества, «буржуазной» интеллигенции, купцов и промышленников. Под видом национализации начались насильственные изъятия церковного и монастырского имущества. Юридические механизмы, регулирующие порядок национализации, не были созданы. Основным методом власти оставалось насилие, применяемое в меру «революционного правосознания» исполнителей на местах. Под угрозой оказались храмы, монастыри, духовные школы. В то же время проводилась агрессивная пропаганда безбожия, направленная на социальные низы, особенно восприимчивые к ней в условиях разрухи и голода.
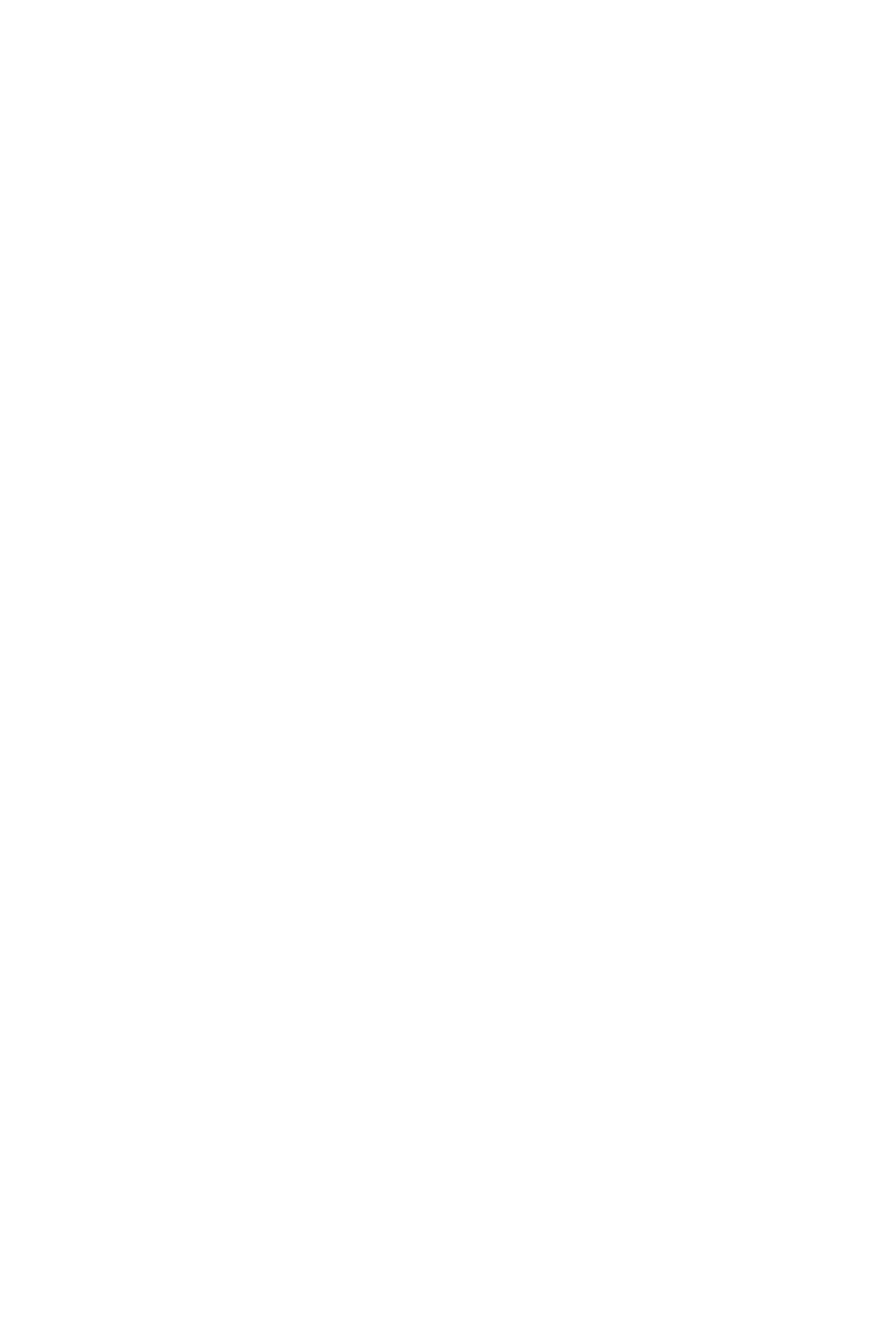
Протоиерей Иоанн Покровский (1903–1975) – родственник и крестник святого праведного Иоанна Кронштадтского.
До Октябрьской революции обучался в Пермской духовной семинарии. С 1925 г. служил благочинным Чердынского благочиния, в 1930-е гг. репрессирован.
Воспоминания о. Иоанна, написанные в начале 1960-х гг. на основе «Семейного месяцеслова» ярко характеризуют события истории Пермской епархии в первые послереволюционные десятилетия, включая эпоху «красного террора».
Рукопись воспоминаний, хранившаяся в архиве семьи Покровских, в 2021 г. была передана Свято-Георгиевскому храму города Перми. На страницах месяцеслова, в частности, есть запись об убийстве в сентябре 1918 г. на паперти храма в с. Верх-Язьвинском Чердынского уезда священника Алексия Ромодина, родственника о. Иоанна.
Иоанн Покровский – священник храма Рождества Христова
в с. Верх-Язьвинское. 1922 г.
Из фондов Музея-заповедника «Пермь-36».
До Октябрьской революции обучался в Пермской духовной семинарии. С 1925 г. служил благочинным Чердынского благочиния, в 1930-е гг. репрессирован.
Воспоминания о. Иоанна, написанные в начале 1960-х гг. на основе «Семейного месяцеслова» ярко характеризуют события истории Пермской епархии в первые послереволюционные десятилетия, включая эпоху «красного террора».
Рукопись воспоминаний, хранившаяся в архиве семьи Покровских, в 2021 г. была передана Свято-Георгиевскому храму города Перми. На страницах месяцеслова, в частности, есть запись об убийстве в сентябре 1918 г. на паперти храма в с. Верх-Язьвинском Чердынского уезда священника Алексия Ромодина, родственника о. Иоанна.
Иоанн Покровский – священник храма Рождества Христова
в с. Верх-Язьвинское. 1922 г.
Из фондов Музея-заповедника «Пермь-36».
В 1918 г. в Пермской губернии были ликвидированы все духовные учебные заведения. Позднее город был занят войсками А.В. Колчака, который разместил в бывшем здании Духовного училища свою контрразведку.