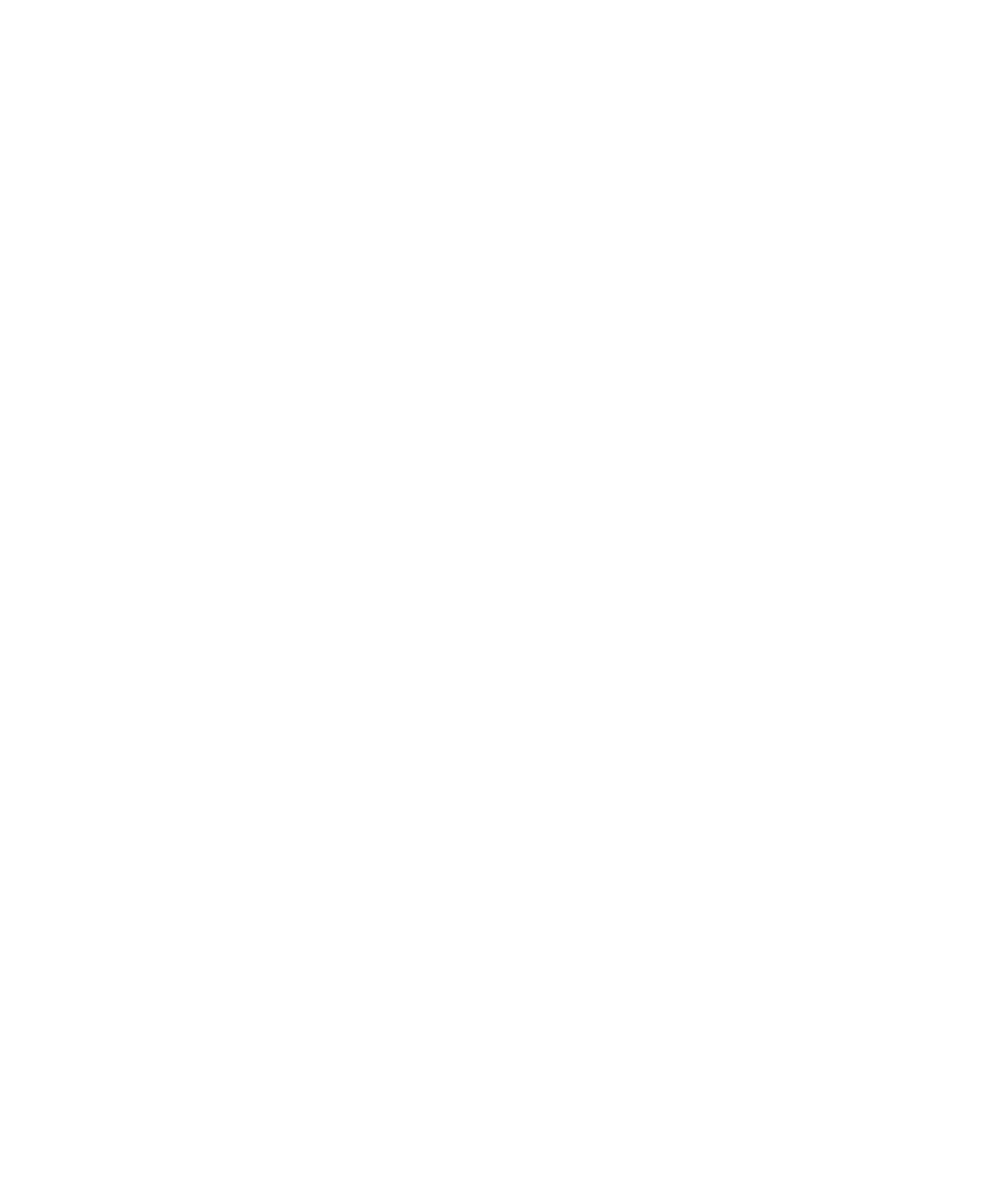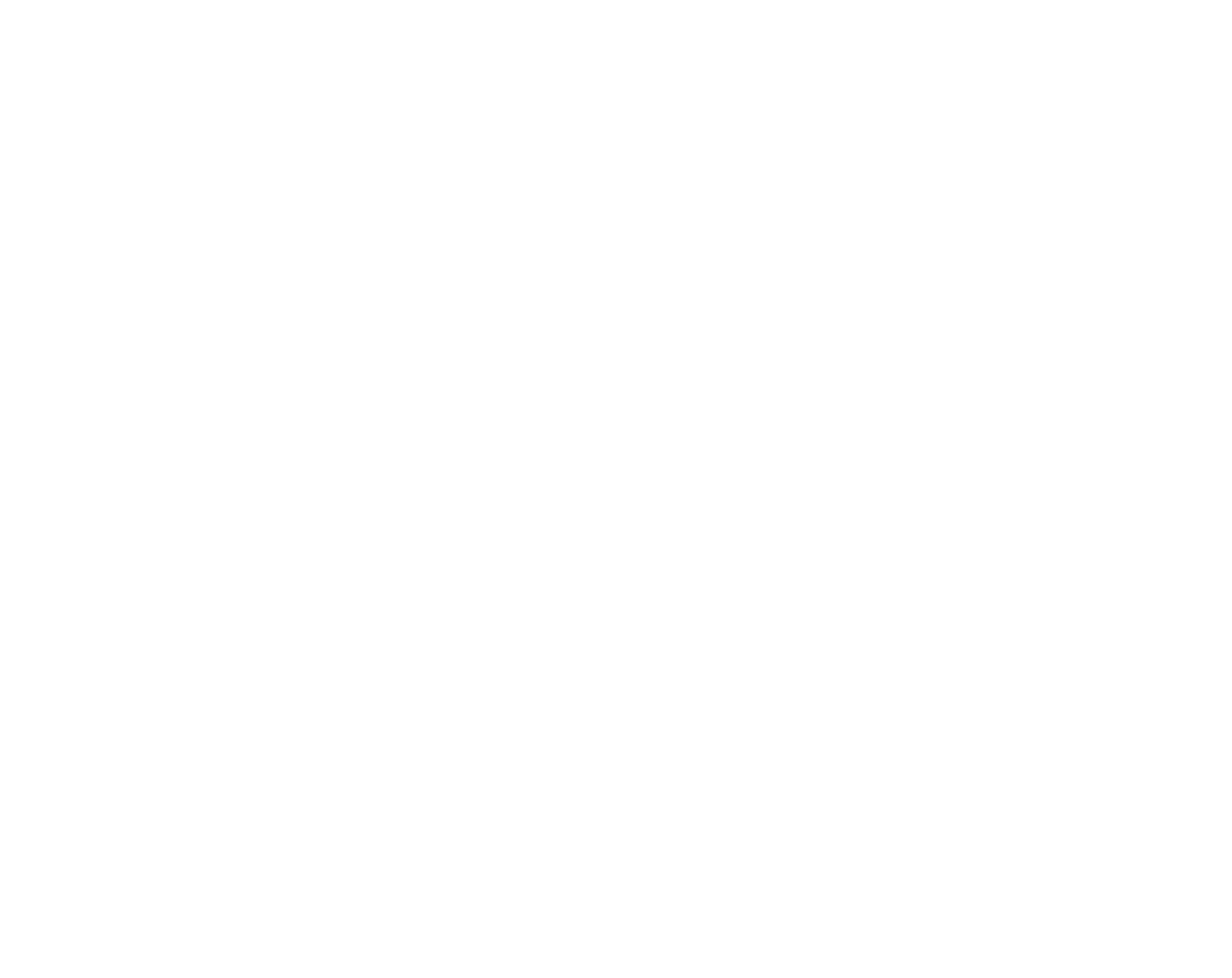Борьба с религией в Прикамье
Из письма Пермского губернского отдела юстиции 29 декабря 1921 г.:
За последнее время... замечается не закономерныя действия местных властей по осуществлению декрета об отделении церкви от государства, как-то: безпричинная ликвидация церквей и монастырей, самовольное отобрание домов и предназначенного для религиозных обрядов имущества, необоснованное расторжение заключенных советами с общинами верующих договоров, реквизиция заготовленных прихожанами для церковных нужд дров и целый ряд других произвольных актов, неблагоприятно отражающихся на общественной психологии верующих и оскорбляющих их религиозные чувства. И потому Губюст предлагает принять к неуклонному исполнению Волисполкомам, чтобы в будущем такия явления на местах отнюдь не допускались и чтобы все существенные и принципиальные мероприятия в этой области не проводились в жизнь без санкции отдела юстиции.
За последнее время... замечается не закономерныя действия местных властей по осуществлению декрета об отделении церкви от государства, как-то: безпричинная ликвидация церквей и монастырей, самовольное отобрание домов и предназначенного для религиозных обрядов имущества, необоснованное расторжение заключенных советами с общинами верующих договоров, реквизиция заготовленных прихожанами для церковных нужд дров и целый ряд других произвольных актов, неблагоприятно отражающихся на общественной психологии верующих и оскорбляющих их религиозные чувства. И потому Губюст предлагает принять к неуклонному исполнению Волисполкомам, чтобы в будущем такия явления на местах отнюдь не допускались и чтобы все существенные и принципиальные мероприятия в этой области не проводились в жизнь без санкции отдела юстиции.
До 1921 г. секретарем Пермского губернского комитета РКП(б) был Е.М. Ярославский – впоследствии один из лидеров движения воинствующих безбожников, активный публицист, член ЦК партии. Пермские большевики, по сравнению с другими региональными парторганизациями, шли «в авангарде» борьбы с Православием.
В 1922 г. вместе с кампанией по изъятию церковных ценностей начинается антирелигиозная агитация в печати, появляются статьи и фельетоны, рассказывающие о «плохих попах», которые не хотят помогать голодающим. Не исчезают и заметки о «хороших попах», которые не препятствуют изъятию, а сами собирают пожертвования. Так местная власть хотела углубить раскол, разделить служителей церкви на плохих и хороших. В указаниях уездным комитетам РКП(б) приводится распоряжение Л.Д. Троцкого: «Выявить более доброжелательных к нам попов и попов, наиболее враждебно настроенных. Первых поддерживать и взять под защиту, вторых занести в черный список, но до окончания кампании по возможности не трогать».
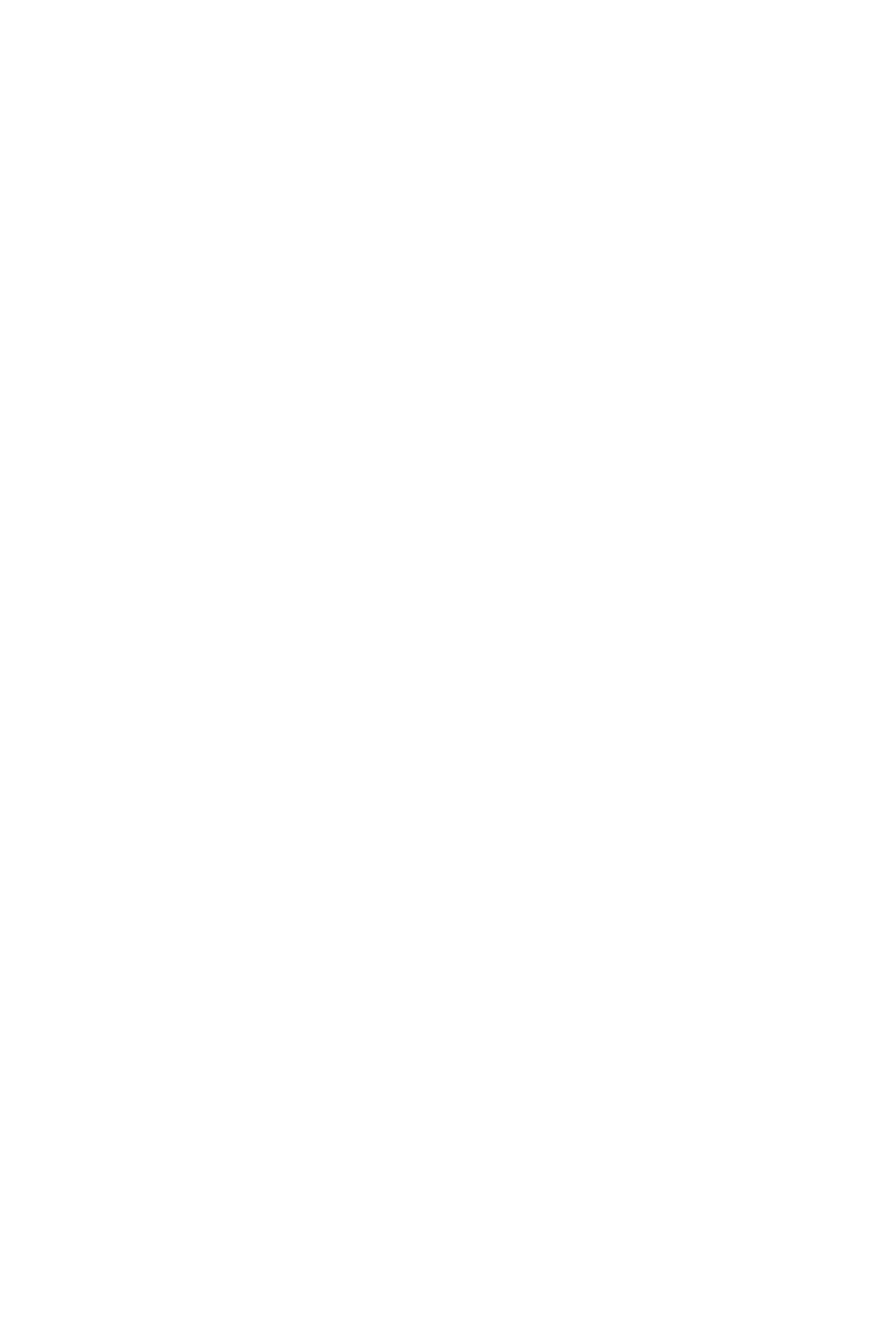
Д. Моор. Плакат «По копеечке с крестьянства собралось церквей убранство – серебро и золото: Что-ж вы стали черным станом? Все должны отдать крестьянам, умирающим от голода». 1922.
При внешне положительном отношении к обновленчеству со стороны власти, РКП(б) публично поддерживала массовые антирелигиозные настроения, представляя их как общественную позицию, и таким образом подготавливая людей к усилению гонений на церковь. С весны 1923 г. начинают проводиться «комсомольские пасхи» – антирелигиозные мероприятия, во время которых зачитывались стихи, пелись частушки, ставились пьесы, высмеивающие церковь и верующих. В газетах появлялись объявления о проведении таких мероприятий, а также заметки от лица рабочих различных предприятий о том, что они собираются работать в выходные, чтобы освободить время для посещения «комсомольской пасхи». Так репортеры пытались показать общественное порицание религии и желание людей улучшить свою «земную», мирскую жизнь.
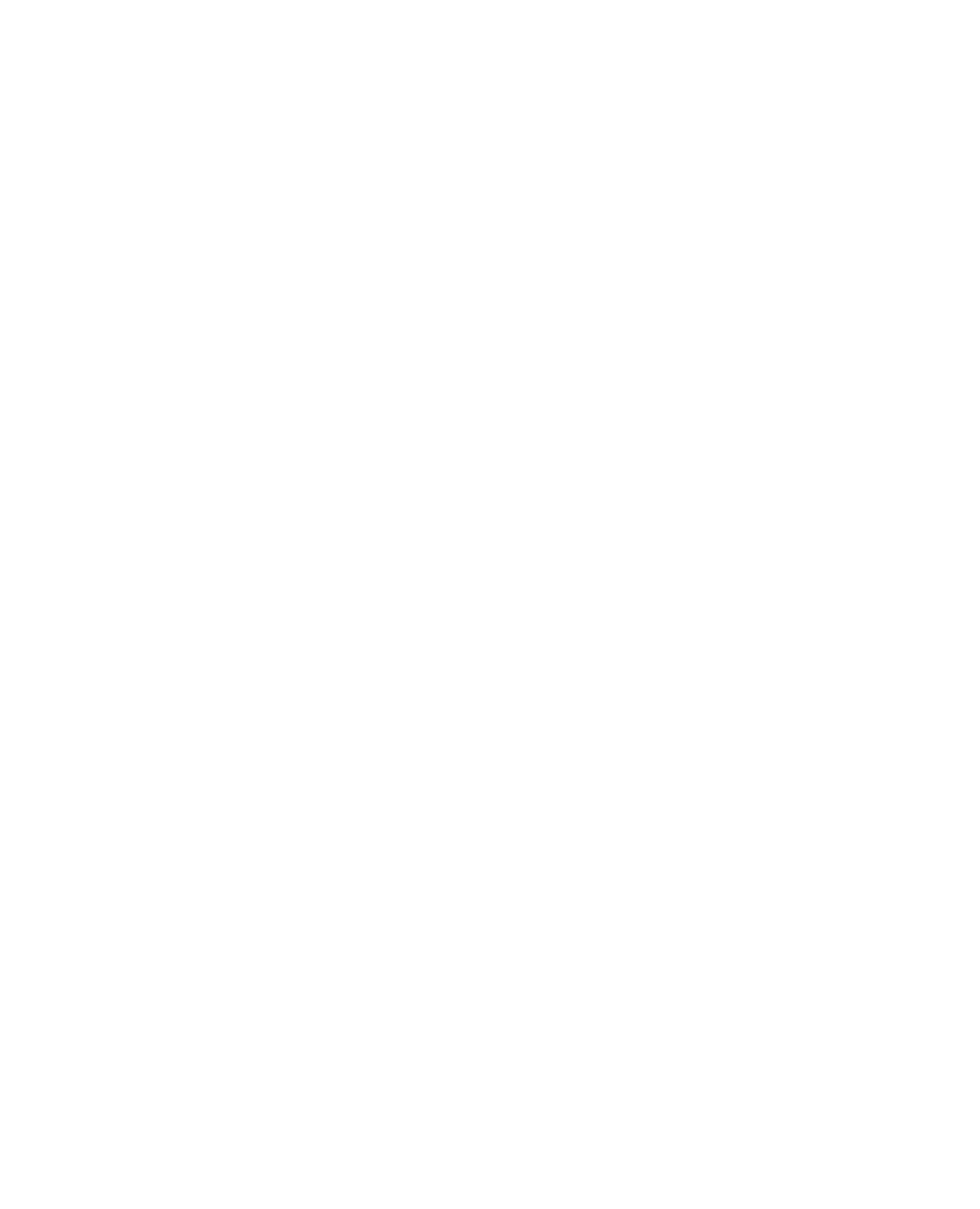
План проведения «комсомольской пасхи». 1923 г. ПермГАСПИ. Ф.620. Оп.1. Д.530. Л.57.
Освобождение патриарха Тихона летом 1923 г. ввергло обновленческое движение в необратимый и затяжной кризис и подтолкнуло его функционеров к примирению с канонической Церковью. Уже на 1 октября 1926 г. из 3112 уральских религиозных общин 56,5% были «тихоновскими» и только 16,1% – обновленческими. В то же время гонения на Церковь в годы нэпа только усилились. Власть при этом стремилась подчеркнуть свою непричастность, создавая видимость инициатив, исходящих от враждебно настроенного к религии общества.
В газетах появлялись сообщения от «беспартийных рабочих» и «афторемонтников» о том, что им катастрофически не хватает места для организации культурно-просветительских мероприятий. Таким образом, конструировалось общественное негодование по поводу того, что Церковь имеет так много зданий.
В газетах появлялись сообщения от «беспартийных рабочих» и «афторемонтников» о том, что им катастрофически не хватает места для организации культурно-просветительских мероприятий. Таким образом, конструировалось общественное негодование по поводу того, что Церковь имеет так много зданий.
В итоге некоторые храмы действительно закрыли, а помещения передали клубам, музеям и кружкам. Здание пермского Архиерейского дома превратили в краеведческий музей, церковь во имя Святого Равноапостольного Князя Владимира была оборудована под дом отдыха, в часовне во имя Святителя Стефана Великопермского открылись курсы по изучению эсперанто, Константиновская церковно-приходская школа превратилась в обычную школу I ступени №3. Частично «здания культа» просто снесли, руководствуясь тем, что они якобы «содержались в ненадлежащем виде». Так, в июне 1923 г. в Перми была снесена часовня Илии Пророка и Николая Чудотворца.
В конце 1922 г. прервалась полуторавековая традиция духовного образования в епархии: были ликвидированы пастырско-богословские курсы, созданные епископом Сильвестром и протоиереем Леонидом Зубаревым вместо закрытой еще
в 1919 г. Пермской духовной семинарии. Бывшее здание Пермского духовного училища с весны 1919 г. пустовало, а в 1923 г. было отдано под общежитие рабфака.
В конце 1922 г. прервалась полуторавековая традиция духовного образования в епархии: были ликвидированы пастырско-богословские курсы, созданные епископом Сильвестром и протоиереем Леонидом Зубаревым вместо закрытой еще
в 1919 г. Пермской духовной семинарии. Бывшее здание Пермского духовного училища с весны 1919 г. пустовало, а в 1923 г. было отдано под общежитие рабфака.
Также в губернии продолжалось закрытие монастырей, например, в 1923 г. был окончательно закрыт Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь. Его бывшие насельники и послушники оказались разбросаны по Прикамью, многие из них поддерживали традиции «Уральского Афона», перейдя на нелегальное положение.
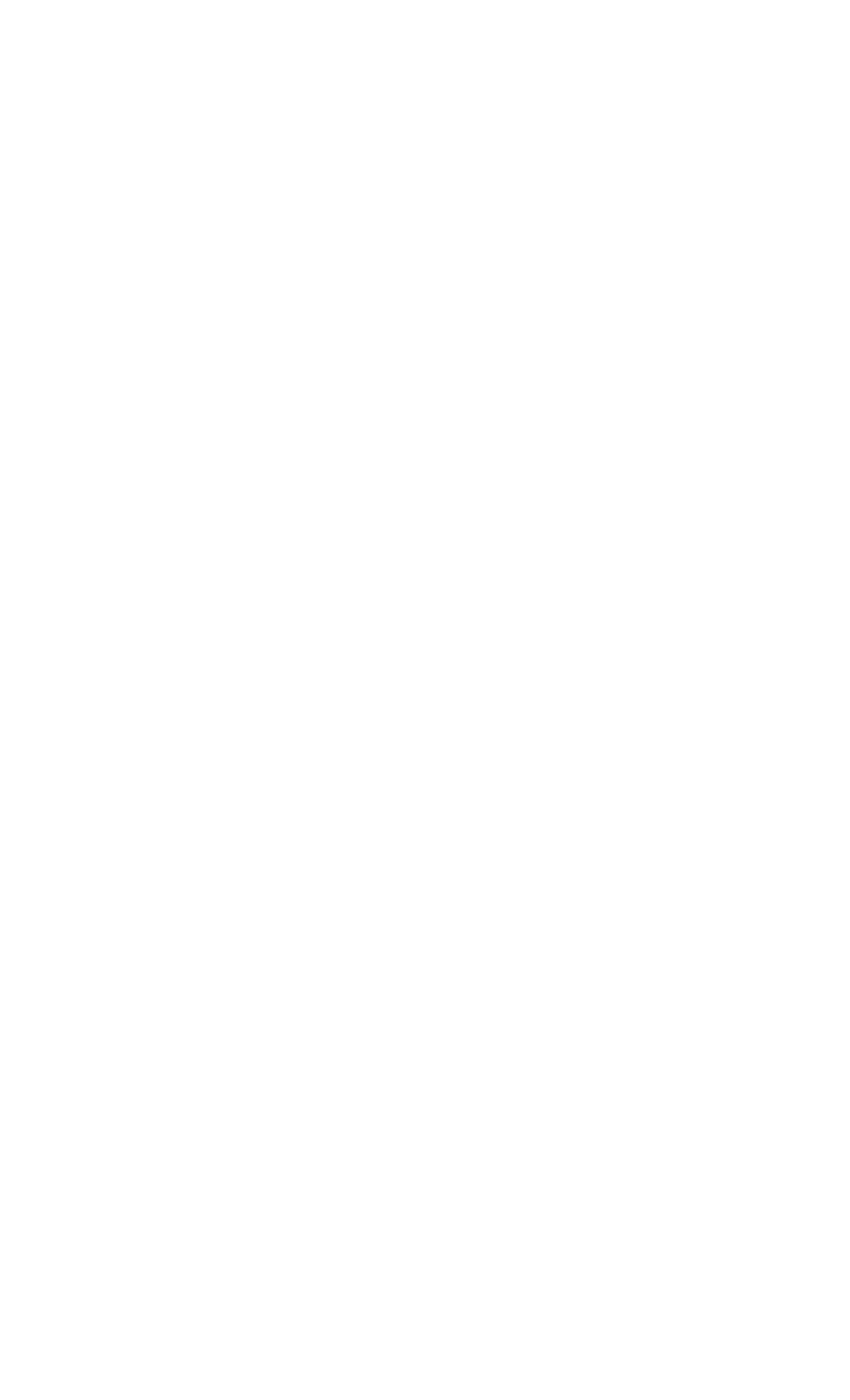
Выписка из протокола заседания Президиума Осинского уездного исполнительного комитета: о ликвидации Белогорского монастыря. 1923 г. ПермГАСПИ. Ф.р-19. Оп.1 Д.59 Л.24.
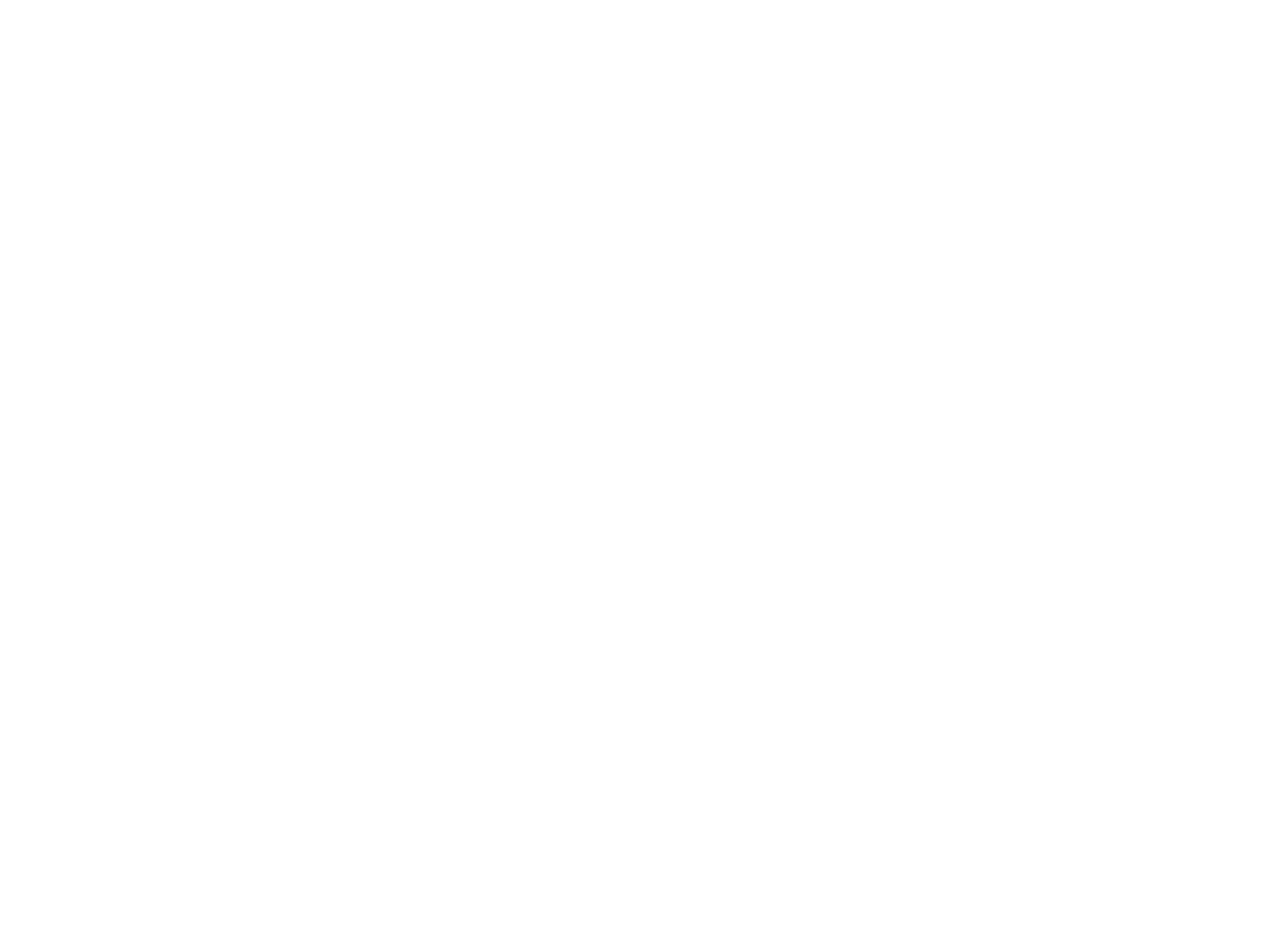
Константин Федорович Дейков (1885 – ?) – бывший послушник Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря. Родился в крестьянской семье в с. Шавкуново Кунгурского уезда Пермской губернии. До революции – владелец мельницы. Когда монастырь был закрыт большевиками, стал членом церковно-приходского совета Свято-Николаевской церкви в с. Кыласово. С 1927 г. был участником тайных православных богослужений в Кунгурском районе. В 1932 г. арестован и приговорен к 5 годам лагерей с заменой на спецссылку, откуда бежал и жил на нелегальном положении. В 1947 г. вновь был арестован, наряду с другими деятелями Православия в Прикамье, приговорен к 5 годам лишения свободы. В лагере начал вести «тюремный помянник» или синодик, в котором приводил список скончавшихся священнослужителей и мирян для поминовения в молитвах. Среди лиц, перечисленных составителем помянника, – новомученики и исповедники Пермской епархии. К.Ф. Дейков посмертно реабилитирован по обоим делам в 1989 г.
Константин Дейков. Фотография из следственного дела. 1947 г.
ПермГАСПИ. Ф.643_2. Оп.1. Д.29035. Т.1. Переписка. Л.57.
Константин Дейков. Фотография из следственного дела. 1947 г.
ПермГАСПИ. Ф.643_2. Оп.1. Д.29035. Т.1. Переписка. Л.57.
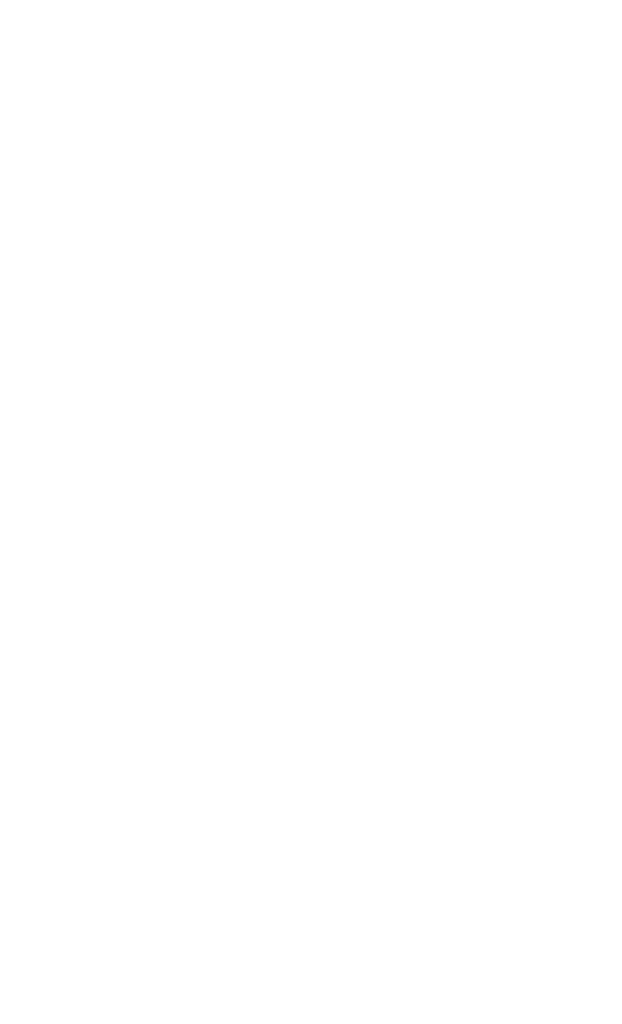
Помянник, написанный Константином Дейковым в заключении. 1940-1950-е гг.
Из фондов Музея-заповедника «Пермь-36».
Из фондов Музея-заповедника «Пермь-36».
Многочисленные жалобы с мест на злоупотребления при антирелигиозной политике даже заставили руководство партии распространить 6 июля 1923 г. циркулярное письмо ЦК РКП(б), в котором декларировалось строгое следование законам об отделении церкви от государства, и в то же время подчеркивалась необходимость планомерного «разложения церкви и искоренения религии».
Из циркулярного письма ЦК РКП № 30 от 6 июля 1923 г.:
Партийная программа говорит: «необходимо заботливо избегать всякого оскорбления чувств верующих, ведущего лишь к закреплению религиозного фанатизма». Резолюция ХІІ-го Партсъезда по вопросам антирелигиозной агитации и пропаганды подтверждает, что «нарочито грубые приемы, часто практикующиеся в центре и на местах, издевательство над предметами веры и культа, взамен серьезного анализа и объяснения — не ускоряют, а затрудняют освобождение трудящихся масс от религиозных предрассудков».
Между тем некоторые из наших местных организаций систематически нарушают эти ясные и определенные директивы партийной программы и партийного съезда.
<…>
Многочисленные примеры с достаточной яркостью свидетельствуют о том, как неосторожно, не серьезно, легкомысленно относятся некоторые местные организации Партии и местные органы власти к такому важному вопросу, как вопрос о свободе религиозных убеждений. Эти организации и органы власти, видимо, не понимают, что своими грубыми, безтактными действиями против верующих, представляющих громадное большинство населения, они наносят неисчислимый вред советской власти, грозят сорвать достижения партии в области разложения церкви и рискуют сыграть на руку контр-революции.
<…>
ЦК вместе с тем предостерегает, что такое отношение к церкви и верующим не должно, однако, ни в какой мере ослабить бдительность наших организаций в смысле тщательного наблюдения за тем, чтобы церковь и религиозные общества не обратили религию в орудие контр-революции.
Партийная программа говорит: «необходимо заботливо избегать всякого оскорбления чувств верующих, ведущего лишь к закреплению религиозного фанатизма». Резолюция ХІІ-го Партсъезда по вопросам антирелигиозной агитации и пропаганды подтверждает, что «нарочито грубые приемы, часто практикующиеся в центре и на местах, издевательство над предметами веры и культа, взамен серьезного анализа и объяснения — не ускоряют, а затрудняют освобождение трудящихся масс от религиозных предрассудков».
Между тем некоторые из наших местных организаций систематически нарушают эти ясные и определенные директивы партийной программы и партийного съезда.
<…>
Многочисленные примеры с достаточной яркостью свидетельствуют о том, как неосторожно, не серьезно, легкомысленно относятся некоторые местные организации Партии и местные органы власти к такому важному вопросу, как вопрос о свободе религиозных убеждений. Эти организации и органы власти, видимо, не понимают, что своими грубыми, безтактными действиями против верующих, представляющих громадное большинство населения, они наносят неисчислимый вред советской власти, грозят сорвать достижения партии в области разложения церкви и рискуют сыграть на руку контр-революции.
<…>
ЦК вместе с тем предостерегает, что такое отношение к церкви и верующим не должно, однако, ни в какой мере ослабить бдительность наших организаций в смысле тщательного наблюдения за тем, чтобы церковь и религиозные общества не обратили религию в орудие контр-революции.
В целом, несмотря на отсутствие репрессий, сопоставимых с революционным «красным террором», священнослужители и выходцы из духовенства в начале 1920-х гг. были ограничены в гражданских правах. Циркуляр НКВД РСФСР от 5 ноября 1923 г. гласил: «Служители религиозных культов по снятии с себя сана, удовлетворяющие требованиям ст. 64 Конституции РСФСР, приобретают избирательные права и могут быть лишаемы таковых на общих основаниях».
Псалтирь и Библия конца XIX в.
Из фондов Музея-заповедника «Пермь-36».
Богослужебная литература в советской России не издавалась, до конца 1940-х гг. священнослужители обращались в основном к дореволюционным изданиям.
Из фондов Музея-заповедника «Пермь-36».
Богослужебная литература в советской России не издавалась, до конца 1940-х гг. священнослужители обращались в основном к дореволюционным изданиям.